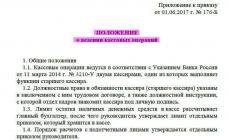О том, что учёба - это такой же труд, что трудятся не только люди, но звери.
Дети в роще.
Они должны были проходить мимо прекрасной тенистой рощи. На дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и весело.
— Знаешь ли что? — сказал брат сестре. — В школу мы ещё успеем. В школе теперь и душно и скучно, а в роще, должно быть, очень весело. Послушай, как кричат там птички! А белок-то, белок сколько прыгает по веткам! Не пойти ли нам туда, сестра?
Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуки в траву, взялись за руки и скрылись между зелёными кустами, под кудрявыми берёзками.
В роще, точно, было весело и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и кричали; белки прыгали по веткам; насекомые суетились в траве.
Прежде всего дети увидели золотого жучка.
— Поиграй-ка с нами, — сказали дети жуку.
— С удовольствием бы, — отвечал жук, — но у меня нет времени: я должен добыть себе обед.
— Поиграй с нами, — сказали дети жёлтой мохнатой пчеле.
— Некогда мне играть с вами, — отвечала пчёлка, — мне нужно собирать мёд.
— А ты поиграешь ли с нами? — спросили дети у муравья.
Но муравью некогда было их слушать: он тащил соломинку втрое больше себя и спешил строить своё хитрое жильё.
Дети обратились было к белке, предлагая ей также поиграть с ними; но белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что она должна запастись орехами на зиму.
Голубь сказал:
— Строю гнездо для своих маленьких деток.
Серенький зайчик бежал к ручью умыть свою мордочку. Белому цветку земляники также некогда было заниматься детьми. Он пользовался прекрасной погодой и спешил приготовить к сроку свою сочную, вкусную ягоду.
Детям стало скучно, потому что все были заняты своим делом и никто не хотел играть с ними. Они подбежали к ручью. Журча по камням, пробегал ручей через рощу.
— Тебе уж, верно, нечего делать? — сказали ему дети. — Поиграй же с нами!
— Как! Мне нечего делать? — прожурчал сердито ручей. — Ах вы, ленивые дети! Посмотрите на меня: я работаю днём и ночью и не знаю ни минуты покоя. Разве не я пою людей и животных? Кто же, кроме меня, моет бельё, вертит мельничные колёса, носит лодки и тушит пожары? О, у меня столько работы, что голова идёт кругом! — прибавил ручей и принялся журчать по камням.
Детям стало ещё скучнее, и они подумали, что им лучше было бы пойти сначала в школу, а потом уж, идучи из школы, зайти в рощу. Но в это самое время мальчик приметил на зелёной ветке крошечную красивую малиновку. Она сидела, казалось, очень спокойно и от нечего делать насвистывала превесёлую песенку.
— Эй ты, весёлый запевала! — закричал малиновке мальчик. — Тебе-то уж, кажется, ровно нечего делать; поиграй же с нами.
— Как, — просвистала обиженная малиновка, — мне нечего делать? Да разве я целый день не ловила мошек, чтобы накормить моих малюток? Я так устала, что не могу поднять крыльев; да и теперь убаюкиваю песенкой моих милых деток. А вы что делали сегодня, маленькие ленивцы? В школу не пошли, ничего не выучили, бегаете по роще, да ещё мешаете другим дело делать. Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только тому приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал всё, что обязан был сделать.
Детям стало стыдно: они пошли в школу и хотя пришли поздно, но учились прилежно.
Пашкин клад. Автор: Антон Параскевин
Было это давно, когда ещё на месте нашей деревни стоял вековой бор. Жил тогда на хуторе близ озера плотник Авдей. Великим мастером называли его в округе. Плотник он был первой руки. Вся его жизнь мерилась ремеслом. Сколько золотых сосновых брёвен отесал, выняньчил, подогнал топором да вложил в сруб. Если бы их измерить, так на много вёрст хватило бы. А великим называли его потому, что любовь свою вкладывал он в каждые тесовину, угол да в смолистый паз. Выходил дом светлый-светлый, и обходили его беды, напасти да лихие разоры.
На целую волость был Авдей всем плотникам плотник. Был он уже немолод — семьдесят минуло, однако и глаз и рука точность держали, как в молодые годы. Безделье да разговоры праздные мастер не любил, от них только одно зло исходит, а вот с топором разговаривать мог бесконечно, почитай всю жизнь рассказал ему до каждой минуты. Топор, он всё поймёт, стерпит, простит и красотой выкажет на удивление. Часто спрашивали сельчане Авдея: откуда у него такие мастерство да мудрость. И он всегда отвечал: «Господь мне помощник, от Него у меня всё: сила, разумение, терпение и красота. Любое дело без Бога — тщетный труд, надсада, и никому он пользы не принесёт». В церковь ходил мастер исправно, посты соблюдал, святые дни почитал и свой плотничий инструмент в храме ежегодно освящал.
Как-то раз вызывает его к себе волостной старшина и говорит: «Решили мы в соседнем селе храм построить, без святой-то церкви народ наш праздным становится, склонным ко всякому непотребству. Казна нам на это святое дело пятьсот рублей отпустила. Нужны хорошие мастера, чтобы храм воздвигнуть на славу. Уже многие плотники вызвались Божью постройку сотворить, да только без тебя тут не обойтись. Пойдёшь в артель за старшего?» Ну, Авдей и согласился. А волостной старшина советует: «Делянку в казённом лесу выбери да загодя начинай лес валить, а то осень не за горами, дороги быстро раскиснут».
Пошёл мастер искать делянку и вышел к самому озеру, а над ним сосны шумят корабельные, звонкие, кора на них с золотым оттенком, а невдалеке — ельник-красняк разлапистый, ствол в обхват. Залюбовался он строевым лесом, глянул, а возле озера ватага парней веселится. Поёт, гуляет да пляшет. А верховодит ими Пашка по кличке Звонок — известный в округе гуляка да балагур. Родители его умерли, оставив ему хутор с хозяйством, так он всё добро на корчму пустил. Куда ни пойди, всюду услышишь о его кутежах, потому и прозвали парня Звонком. Жалко стало Авдею его, такой молодец пропадает — высокий, статный, лицом красивый, а руки — как крюки, за что ни возьмётся, всё из них валится. Словно корень-выворот в лесу — кряжист, могуч, да никому не нужен. Гуляет Пашка в атласной рубахе, на балалайке наяривает, частушки поёт, а все дружки его пляшут. Задумался Авдей. Думал он думал, умом напрягся и решился на оказию: «А ведь хороший артельщик может получиться с парня, только дай мне Бог терпения».
Подошёл к ватаге, Пашку окликнул:
— Ну что, брат, гуляем?
— Гуляем, дед Авдей, — засмеялся Пашка и ещё звонче ударил по струнам. А дружки его хохочут, на мостовой сапогами дроби выбивают.
Авдей за балалайку хвать:
— Погоди, — говорит, — дело есть.
— Какое ещё дело в такой праздник? — смеётся Пашка.
Авдей его в сторону отвёл:
— Дело, — говорит — барышное. Ты, я вижу, до гульбы охотник, так к тебе лафа сама в руки лезет.
— Что за лафа? — осерьёзнел лицом Пашка.
А мастер ему:
— Тайна у меня есть великая. Мой отец, уходя на войну, на этой делянке золотой клад спрятал в сосновом дупле. С войны он не вернулся, а клад тот так и остался в живом тайнике. С тех пор много лет прошло, дупло заросло, а клад-то нетронутый. Если мы эту делянку свалим, то его обязательно найдём. Тогда бери себе половину. С такими деньгами можно гулять до старости.
— Ох и хитрый ты старик, — вздохнул Пашка. — А нет ли здесь подвоха? Всяк Федот по-своему гнёт. Ты жизнь прожил, по кладу не тужил, а теперь ко мне с тайной?
— Да забыл я эту сосну, Пашка, напрочь забыл, думал, что вон в той, но дупла там не нашёл, думал, что в этой, — и снова ошибся. Раньше-то мне клад не нужен был, когда я был молод да здоров, а теперь он мне в самый раз. Хранил я его на чёрный день. Не лазить же мне по всем соснам в мои-то годы. А ты, Пашка, если валить лес не хочешь, так я себе другого подсобника найду. Не хуже тебя. А ты иди, гуляй, сегодня у тебя пирог загостевал, а завтра будешь хлебать морковницу. Деньги не снег, да в худом кармане тают.
Пашка подумал и согласился.
— А когда начнём вырубку? — спрашивает.
— Да вот на днях и начнём, отклад не идёт на лад.
— А куда же повал пойдёт, дед Авдей, лес-то казённый?
— А из повала будем церковь рубить в Заозерье. — Авдей усмехнулся и показал рукою на высокий пригорок за плёсом.
А когда отхлынула хлебная страда, стал плотник собирать мастеров. Собрал человек двенадцать. Все мастера первостатейные, в своём деле умельцы. Авдей по лесу ходит, к каждой сосне присматривается и прислушивается, словно он не на делянке, а на смотринах невесты: каждое дерево оценивает да запоминает. Одна часть артельщиков лес валит, а другая — его на колёса укладывает да в Заозерье возит, одним словом, подсобники у него на славу.
Говорит мастер Пашке:
— Ты, парень, не торопись, брёвна вначале отесать надо, а затем я клад быстро найду, от меня в дереве ни одна гниловинка не скроется, а не то что дупло. Посему готовь, брат, безмен — золото делить.
А сам по стволам постукивает да полетные кольца на пнях считает.
Место для церкви выбрали высокое, красивое да светлое, над обережьем озёрным. А какой обзор вокруг, аж душа радуется. Вот и ручей рядом бежит к плёсу, и что ни шаг, то ложбинка с криничкой, звенят они, словно гусли вековые, мелодией животворящей, неповторимой. Авдей стал показывать Пашке, как брёвна отёсывать. Рукава подсучил, топор поднимает аккуратно, легко, весело, а удары кладутся расчётливо и плотно. Под топором кучерявится жёлтая стружка. «Вот так любовно и гони отёс, будто стрижёшь золотого ягнёнка, а чуть в сторону, так его и поранил, уразумел?» Пашка головой кивает, слушается, а сам всё про клад спрашивает, не уложитьбы в сруб то бревно с кладом. «Ты, — говорит дед Авдей, — каждый аршин выстукивай, да не ошибись, а то вся работа пойдёт насмарку, золото ведь на молитву не торопится».
Шло время. Храм вырастал на глазах большим, красивым, звонким срубом, глаз нельзя было отвести. Но клада всё не было. «Не торопись, — успокаивал молодца мастер, — всего-то уложили полсотни брёвен, никуда он от нас не денется». А Пашка уже стал привыкать к плотничьей работе да познавать её тайны дивные, не всем открытые. Вроде одинаковый лес, а у каждой сосны свой характер. У одной щепа мягкая, словно кудель, а у другой — совсем иная, и топор звучит по-иному. И он тесал любовно, бережно, как и учил Авдей, — будто остригал золотого ягнёнка. И уже про клад спрашивал реже, а всё больше про секреты плотничьи. Стал топор у молодца в руках лёгок да послушен, как весёлка-лопатка в руках хозяйки, которой она замешивает тесто.
Незаметно наступила осень. Занавесила она лето пологом упругих ветров, как завешивают в доме сукном печной кут в ожидании гостей. Холодные ветра стали толпиться под озёрным плёсом, замутнив его синевато-лиловый взор. Авдей несколько раз отлучался в город и привозил то топор из московской стали, то длинный плотничий буравец со стамесками. Неплохо продвигалась работа артельщиков, вот уж завершили они основание храма, средний ярус и взялись за верхние паруса. Пашку стали уважать даже первостатейные мастера как сметливого да старательного ученика. «Человеком парень становится, из него толк выйдет».
К Покрову храм был завершён. Он стоял на пригорке, сверкая серебряными куполами, и радовал сердце. И внутри был на загляденье. Сам дед Авдей удивлялся. Такая на душе отрада — не высказать. На что Пашка был разбитным, и то заметил: «Когда в него заходишь, в душе словно огонёк загорается». Стали артельщики распускать брёвна на мостовины да пол мостить. И снова поучает Авдей своего ученика. «Ты, — говорит, — пузо не рви, силою тут не возьмёшь. Вот муравей, к примеру, не по силе ношу тащит, да никто ему спасибо не говорит, а пчела по крупинке мёд носит, но и Богу и людям угождает». Когда храм намостили, установили алтарь и сделали резной иконостас с украсой по церковным правилам, отзывает он Пашку в сторонку и говорит: «Нашёл я то бревно с золотым кладом, да, дорогой мой, нашёл. И ты мне в этом помог. Только вот какое дело, брат, вышло... Когда я в город за инструментом ездил, вы его в стену уложили, в ту стену, которая на полдень. Оно по счёту шестое снизу, а дупло от угла ровно в четырёх аршинах находится» . И показывает юноше ту заветную деревину и то место с дуплянкой. «Сегодня, — говорит, — приезжает из города батюшка с церковным хором, будет освящать храм и служить первую Литургию, ты обязательно приходи».
.jpg) Долго размышлял Пашка, как ему быть. С одной стороны, ясно — клад у него под рукою, приходи и бери, но только как жалко, разворотив стамескою смолистое бревно, испортить такую красоту! Да и работу всей артели пустить насмарку. И как потом дыру заделать? «Да как не заделывай, всё равно отметина останется — отметина моей корысти на много лет вперёд. И артельщики сразу заметят, Авдей им всё расскажет, и доверие ко мне пропадёт». Но всё же, что бы потом не стало, золото есть золото, оно все двери открывает, все сердца согревает. Взял Пашка широкую стамеску с молотком, завернул их в холстину и пошёл в храм на службу. «Когда Литургия закончится и все разойдутся, я скажу церковному старосте, что не всю работу закончил, а останусь один — клад из того бревна вырублю», — решил он.
Долго размышлял Пашка, как ему быть. С одной стороны, ясно — клад у него под рукою, приходи и бери, но только как жалко, разворотив стамескою смолистое бревно, испортить такую красоту! Да и работу всей артели пустить насмарку. И как потом дыру заделать? «Да как не заделывай, всё равно отметина останется — отметина моей корысти на много лет вперёд. И артельщики сразу заметят, Авдей им всё расскажет, и доверие ко мне пропадёт». Но всё же, что бы потом не стало, золото есть золото, оно все двери открывает, все сердца согревает. Взял Пашка широкую стамеску с молотком, завернул их в холстину и пошёл в храм на службу. «Когда Литургия закончится и все разойдутся, я скажу церковному старосте, что не всю работу закончил, а останусь один — клад из того бревна вырублю», — решил он.
В храме было много народу. Все нарядно одеты: женщины в платках-атласках да новых вязанках, мужчины в выходных кафтанах да яловых сапогах. Было тепло от множества горящих свечек и двух печей с выведенными в верхние окна дымоходами. Молодец стал в правой половине притвора, глазами отсчитал шестое бревно снизу, затем от угла четыре аршина отмерил и вдруг увидел, что на отсчитанном месте находится икона угодника Божьего Николая Чудотворца. Но утром же её не было. Это, верно, батюшка привёз из города и повесил как раз на этом месте. Пашка подосадовал и стал ждать. В сверкающем облачении вёл батюшка службу. Ему помогал дьякон в длинной серебристой одежде. «Миром Господу помолимся», — пел хор, да так красиво, одухотворённо и возвышенно, что Пашка заслушался и замер. Ему показалось, что неведомая сила поднимает его ввысь, к самым куполам, и так стало на душе легко и спокойно, что он на миг забыл о своём намерении.
Затем снова вспомнил про клад, поглядел на икону Николая Чудотворца, на которую упал из окна солнечный свет, и вдруг почувствовал строгий, любящий взгляд святого. И было в нём всё: душевная твёрдость и ласка, осуждение и прощение, и неведомое юноше до сих пор откровение. А хор в это время запел Херувимскую песнь. Пашка не выдержал, и слёзы покатились у него из глаз. Он никогда так не плакал, даже в далёком детстве, так откровенно и чисто.
Лишь только один раз, когда увидел во сне свою покойную мать, ощутил нечто подобное. То были слёзы покаяния, радости света и жизни. Вначале молодец как бы устыдился их, но потом, заметив, что на него мало кто обращает внимание, всхлипывая, подошёл к широкому подсвечнику, наклонился к жестянке для свечных огарков и опустил в неё свой свёрток — молоток со стамескою.
А когда служба закончилась и все сельчане приложились ко святому кресту и стали расходиться, церковный староста громко спросил: «Кто забыл свой инструмент?» Ничего не ответил Пашка. Он шёл домой и думал, что сегодня нашёл свой клад, который был в тысячу раз дороже золотого. Он был нерукотворный и неиссякаемый. А золото пускай себе лежит. Оно ведь в надёжном месте. Может, в лихую годину церкви и пригодится.
Труд – основа основ, начало начал, сила из сил. Трудиться хлопотно, тяжело, но всё в жизни даётся трудом. О труде можно хитрое словесное кружево плести, можно и сказку рассказать.
«Как труд человека меняет»
Автор сказки: Ирис Ревю
Совсем разленился Митрофан. А соседям жалуется:
— Приболел, всякие хвори начали цепляться.
Народ уж поля пшеницей засевать начал, а Митрофан всё охает.
И вот однажды постучался к Митрофану главный работник по имени Труд Иванович, и строго спрашивает:
— Отвечай, Митрофан, по добру по здорову, почему не начинаешь сев?
— Приболел немного.
— А знаешь ли ты, Митрофан, что от лени человек болеет, а от труда здоровеет? – спросил его Труд Иванович.
Поднялся Митрофан, подпоясался, да и пошёл в поле. А там все трудятся. И Труд Иванович здесь же. Кому подмигнёт, кого пожурит, но всем помогает.
И Митрофану помог, когда тот работать начал. Обрадовался Труд Иванович, что Митрофан лениться перестал. Правильно, не век же парню на печи сидеть.
А Митрофан, поработав, совсем другим стал: щеки порозовели, глаза горят. Куда только хвори подевались? Убежали, наверно, в царство Лени-матушки.
Да, не зря молвится пословица: «От лени человек болеет, а от труда здоровеет».
Вопросы к сказке «Как труд человека меняет»
Почему Митрофан не приступал к севу?
Кто отправил Митрофана в поле?
Изменил ли труд Митрофана?
Кто помог Митрофану в работе?
Должны ли люди помогать друг другу в работе?
Почему человек от лени болеет, а от труда здоровеет?
Какие ещё пословицы о труде ты знаешь?
Рассказы о труде для детей среднего школьного возраста. Эти рассказы помогут учителям в трудовом воспитании детей.
Дарья - золотое веретёнце. Автор: Антон Параскевин
Жил в давние времена на хуторе близ нашей деревни кузнец Фома со своей женой Агриппиной. Кузнецы в старину были в большом почёте: о них и песни пели, и поговорки слагали, и чести им было на селе не меньше, как у старосты. Когда первая жена Фомы умерла, Агриппина, хоть и девкой была, а за вдовца с двумя детьми пошла замуж с охотой, потому как говорили люди: «У кузнеца что ни стук, то гривенник».
У Фомы-то подрастали сын Василёк трёх лет да дочка Дашутка — пятнадцати. Мачеха Агриппина была с характером: всё с упрёками и подковырками. Падчерицу часто бранила: «Вымахала что жердь, а ни в лице красы, ни в руках сноровки. А сватовство- то не за горами. Красавицу да мастерицу и без приданого возьмут, а вот на тебя, корчевина ты неуклюжая, половина хозяйства уйдёт. Ни ткать, ни прясть, ни холсты белить не умеешь».
Девушка это и сама знала. Не получалось у неё прядение ну никак! За пряжу возьмётся, а пальцы — как деревянные. Ведь скоро станет ей семнадцать, пойдёт она с девчатами на село на вечорки, где молодёжь собирается. Все сверстницы будут показывать свои мастерство и красу, а ей тогда как быть? «И прозовут тогда меня кривое веретено», — часто думала Дашута. Только и было у неё сокровищ, как-то братец Василёк, серебряный рубль да небольшой образок святой Параскевы, что оставила ей мать. Та часто рассказывала девушке об этой святой, о том, что она покровительница домашнего мастерства. Дашута даже молитву выучила ко святой заступнице и часто шептала её перед сном.
Серебряный рубль ей прошлой зимой купец подарил, который у их хутора заблудился, а она вывела его коня на дорогу. Берегла она рубль для Василька, чтобы купить ему к Рождеству валенки, что часто видела в сельской лавке. Батюшке-то было невдомёк, дома он бывал редко, а всё чаще в кузнице да на богатых дворах работал. Мачеха Агриппина весь заработок себе забирала: «Походит и в лаптях, не панич», — говорила она. «Эх, научиться бы мне прясть, — мечтала Дашута, — я бы брату босовики связала, да такие тёплые, что и в мороз выйти было бы не страшно».
Как-то перед днём святого Николая Угодника зашла в деревню нищенка. Была она седая, согбенная, в худом армяке да с холщовой сумой на плечах, ходила по хатам и собирала милостыню. А в такое время, когда уже нивы сжаты, травы скошены и урожай в закромах, каждому есть что подать. Не зря говорят в народе: «На зимнего Николу и грач богач». Нищенка подошла к их хуторку под вечер. Шёл мокрый снег, в ольховнике завывал ветер. Двери открыла мачеха: «Бог подаст, милая, а ночевать-то у нас негде, на печь тесто поставила, на полатях детям постелила, так что не обессудь!»
Нищенка и ушла, а Дашута глянула на неё, и сердце сжалось — куда же в таком армяке да против ночи, вот-вот наползёт темень, и останется нищенка в поле одна. Побежала девушка в запечье, схватила серебряный рубль, что хранила под сенником, и, выбежав во двор, стала догонять нищенку. Догнала её возле гумна: «Прости, матушка, вот возьми, это всё, что у меня есть». А та по голове девушку погладила и улыбнулась. Дашута аж удивилась: такой холод на дворе, а ладонь у старицы — тёплая. Домой воротилась, а мачеха давай её ругать: «Ты что ей подала, небось, овсяный калач? Так вот теперь голодная спать и ложись!»
Долго не могла уснуть от обиды девушка. О рубле не думала. Сплетёт она Васильку двойные лапотки да вырежет суконные оборы из старого материнского платка. Зиму братец переходит. Но вот почему она такая неумёха? Достала она из-под подушки икону, аккуратно завёрнутую в тряпицу, и, поцеловав её, стала молиться: «Святая мученица, матушка Параскева, научи меня прясть, милая, я бы тогда братцу босовики связала, и мачеха меня бы неумёхой не называла, и в деревне надо мной никто бы не смеялся». Дашута молилась и плакала, тихонько всхлипывая, вытирая тряпицей слёзы. Стала думать о святой мученице, затем о покойной матушке и не заметила, как уснула.
И снится ей сон, что сидит она на лавке возле окна, что уже светает, но солнце ещё не взошло. Снег перестал, и небо чистое, словно сиреневое стекло. Вот заходит в дом нищенка, а в руке у неё — серебряный рубль. Выводит она Дашутку по двор: «Погляди, — говорит, — как солнце вставать будет». И смотрит девушка на тёмный лес, куда указала нищенка, но ничего не видит. Вдруг солнечными лучами выкатилось из-за леса золотое веретёнце и, упав на рыхлый снег, запрыгало-заиграло. Подхватила его нищенка и подаёт Дашуте: «Возьми его и держи крепко, из рук не выпускай». А рядом упало второе, третье... И вот уже тысячи веретён покатились по кустам, деревьям, крышам — вставало солнце. А нищенка стоит рядом, и уже не в армяке с холщовой сумкой, а в дивном одеянии с блёстками. «Вот так, — говорит, — ты каждое утро веретёнце и подхватывай, тогда и мастерицей станешь». Хотела Дашута ещё что-то спросить, но старица исчезла, и она проснулась.
Было ещё темно, но за стеною уже кричал петух и мычала корова. Девушка быстро подсела к печурке, где стояла прялка, зажгла лучину, закрепила пучок кудели и взяла веретено. Только пальцы по-прежнему не слушались, и пряжа получилась неровная. Но вот солнечный луч упал на веретено, на прялку, пробежал по полатям, где спал Василёк. Дашута, боясь дышать, изо всех сил выводила нитку. Вдруг что-то стало открываться пальцам, вроде бы простое, но чего раньше не чувствовала, и она, боясь всколыхнуть воздушный пучок кудели, стала вытягивать ровную нить. Пучок вдруг закончился, и девушка испугалась, что потеряет то, что ощутила. Закрепила новый, но он был жёстче, и пальцы снова не слушались. Так повторялось несколько раз.
Через неделю нитка уже текла сквозь пальцы, как ручеёк. Мачеха даже руками развела: «Вот тебе и сиротинка, неумёхой прикидывалась!» А через год Дашута уже и ткала, и холсты белила, и вышивала на них узоры и то, что вокруг себя видела: и берёзовую рощу, и ель с боровиками, и скачущий ручей. На вечорках стала она первой: «Ох, и любит тебя веретено, словно мать родная», — вздыхали ровесницы. Мачеха Агриппина успокоилась и язвить перестала, зауважала падчерицу. Девушку же с тех пор стали в народе называть Дарья — золотое веретёнце.
Как рубашка в поле выросла. Автор: Константин Ушинский
I
Видела Таня, как отец её горстями разбрасывал по полю маленькие блестящие зёрна, и спрашивает:
— Что ты, батюшка, делаешь?
— А вот сею ленок, дочка; вырастет рубашка тебе и Васютке.
Задумалась Таня: никогда она не видела, чтобы рубашки в поле росли.
Недели через две покрылась полоска зелёной шелковистой травкой и подумала Таня: «Хорошо, если бы у меня была такая рубашечка».
Раза два мать и сёстры Тани приходили полоску полоть и всякий раз говорили девочке:
— Славная у тебя рубашечка будет!
Прошло ещё несколько недель: травка на полоске поднялась, и на ней показались голубые цветочки. «У братца Васи такие глазки, — подумала Таня, — но рубашечек таких я ни на ком не видала».
Когда цветочки опали, то на место их показались зелёные головки. Когда головки забурели и подсохли, мать и сёстры Тани повыдергали весь лён с корнем, навязали снопиков и поставили их на поле просохнуть.
II
Когда лён просох, то стали у него головки отрезать, а потом потопили в речке безголовые пучки и ещё камнем сверху завалили, чтобы не всплыли.
Печально смотрела Таня, как её рубашечку топят; а сёстры тут ей опять сказали:
— Славная у тебя, Таня, рубашечка будет.
Недели через две вынули лён из речки, просушили и стали колотить, сначала доской на гумне, потом трепалом на дворе, так что от бедного льна летела кострика во все стороны. Вытрепавши, стали лён чесать железным гребнем, пока не сделался он мягким и шелковистым.
— Славная у тебя рубашка будет, — опять сказали Тане сёстры. Но Таня подумала: «Где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку» .
Ill
Настали длинные зимние вечера. Сёстры Тани надели лён на гребни и стали из него нитки прясть. «Это нитки, — думает Таня, — а где же рубашечка?»
Прошли зима, весна и лето, настала осень. Отец установил в избе кросна, натянул на них основу и начал ткать. Забегал проворно челнок между нитками, и тут уж Таня сама увидала, что из ниток выходит холст.
Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по снегу расстилать, а весной расстилали его по траве, на солнышке, и взбрызгивали водой. Сделался холст из серого белым, как кипень.
Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек; принялись сёстры рубашки шить и к Рождеству надели на Таню и Васю новые белые, как снег, рубашечки.
Те, кто раньше трудиться не любили, вдруг осознали, что труд — это необходимость, что это важно, интересно. Бывает ли такое? Бывает, и не только в сказке.
Сказка «Как Бабочки труд полюбили»
Жил-был Муравей Муравеич. Трудяга, каких свет не видывал. Трудился он с утра и до вечера. Чем же занимался Муравей? Строительством. А что строил Муравеич? Дома. Свой-то дом у него уже давно ладный стоял. Теперь он помогал строить дома своим многочисленным братьям.
По соседству с Муравьем жила Бабочка Пестрянка со своей сестрой. Целый день они наряжались в пёстрые наряды, летали, болтали.
— И не надоело вам, милые соседки, всё время бездельничать, попусту тратить дорогое время? – спрашивал их Муравей Муравеич.
— Нет, — отвечали они, — нам красоваться никогда не надоедает. – Как это чудесно ничего не делать.
Сказать-то они сказали, но обе в душе чувствовали, что и вправду пустое времяпровождение стало надоедать им. Но признаваться в этом соседу не хотелось.
— Чем же мы сможем заняться? – спрашивали бабочки друг друга.
Думали-думали сестрички, но так ничего и не придумали. Вечером, увидев Муравья, они спросили его, не нужны ли ему помощницы.
— Ещё как нужны! — обрадовался Муравей. – Мы с братьями дома строим, а вы в них будете наводить красоту. Вы ведь большие мастерицы по красоте!
И работа закипела. Если вы думаете, что у Бабочек ничего не получалось, то это не так. Есть такая пословица «Аппетит приходит во время еды». И работы это тоже касается. Вкус к работе появляется во время её выполнения.
Вот и наши Пестрянки увлеклись работой. И стало им интересно.
С тех пор они так с соседом, Муравьем Муравеичем, и работают.
Полюбили Пестрянки труд!
Вопросы и задания к сказке
Каким был Муравей Муравеич?
Чем занималась Бабочка Пестрянка и её сестра?
Почему Пестрянкам надоело пустое времяпровождение?
Чем Муравей Муравеич предложил заняться Бабочкам?
Какие пословицы подходят к сказке?
Трудовая правда крепко стоит.
Труд всему основа.
Труд дарит радость.
Главный смысл сказки заключается в том, что пустое времяпровождение не приводит ни к какому развитию, ни к радости, ни к позитиву. Трудом мир держится. Счастлив тот, кто трудится.
Сказка о труде
Гвоздь и Молоток
Эту сказку можно использовать на уроке русского языка- пример сочинения о труде, на уроке литературы- олицетворение, классный час- в воспитательных целях.
Жили-были Гвоздь и Молоток. Жили они по соседству на магазинной полке среди множества других инструментов. Гвоздь никак не мог нахвалиться собой: «Вот я какой! Новый! Ровный! Блестящий! Вот какая у меня красивая шляпка с клетчатым узором! Я самый лучший! Самый красивый!» Молоток только молча смотрел на своего соседа.
И вот однажды их купили и принесли в мастерскую. Здесь было много диковинных инструментов, которые Гвоздь и Молоток увидели впервые. Все они с интересом наблюдали за новыми жильцами. Молоток по своему обыкновенно молчал, ну а Гвоздь не унимался: «Меня сделали на заводе во Франции. Посмотрите, какая у меня шляпка! Ни у кого такой нет! А какой узор на ней!» Он важно прохаживался среди других инструментов: гвоздей, болтов и гаек. Гвоздь с презрением посматривал на окружающих.
Наступило утро. В мастерскую пришёл хозяин и принялся за работу. Взяв молоток, он стал забивать гвозди. И так ладно спорилась у него работа! Гвозди сами прыгали ему в руку, затем выстраивались ровными рядами, а Молоток, поклонившись каждому, забивал его в пахнущие смолой доски. Хозяин не мог нарадоваться Молотком.
Настало время обеда, и хозяин ушёл. Молоток перевёл дух и хотел было отдохнуть, как к нему подошёл Гвоздь.
- И не надоело тебе каждому кланяться? Так и голова может отвалиться! Лучше у меня учись! Смотри, как я хожу! Никому не кланяюсь! Никому не разрешаю к себе прикасаться!
Молоток снова промолчал. Тут вернулся хозяин и вновь принялся за работу. Молоток, весело присвистнув, отбивал поклоны. Работа кипела. Наконец очередь дошла до Гвоздя. Гвоздь так не хотел, чтобы к нему прикасались, поэтому стал ускользать из-под пальцев хозяина. Он перекатывался из стороны в сторону, закатывался под инструменты, прятался за досками. Но сколько Гвоздь ни убегал, он всё-таки попался в руки хозяина и был вне себя от злости! К нему прикоснулись! Сейчас его поставят в один ряд с другими гвоздями! Его заставят что-то делать! Этого он никак не мог допустить! Гвоздь так крутился, что хозяин не удержал его и уронил. Гвоздь покатился по полу, проскользнул между досками и упал на землю: «Здесь уж меня никто не достанет!».
Хозяин посмотрел вслед исчезнувшему в подпол гвоздю и продолжил работу.
Прошло временя. Что же случилось с нашими знакомыми? Все инструменты, жившие в мастерской, были как новенькие, как будто их только что принесли из магазина. Молоток был весел, бодр и счастлив. Ведь он жил среди друзей, которые трудились вместе с ним с утра и до вечера. Молоток был все так же молод, счастлив потому, что был нужен и приносил пользу другим.
А где же Гвоздь? Гвоздь так и не вышел больше из своего укрытия, так и пролежал в подполье. Выйди он оттуда, его никто бы не узнал. Исчез его блеск, шляпка с клетчатым узором сбилась набок, спина его согнулась, а сам он покрылся толстым слоем ужасной ржавчины. И, конечно же, о нём все забыли.
Такое случается и в нашей жизни. Человек, который любит трудиться, всегда будет молод и счастлив. У него много друзей, этого человека любят и ценят, его помнят, о нём рассказывают своим детям и ставят в пример. Он просто делает свою работу. Не хвастаясь своими достижениями. А хвастун и зазнайка никому не интересен, и ни у кого не вызывает восхищения. С ним не хотят общаться и очень быстро забывают о нём.